«ПОДРОСТОК» - Достоевский Федор Михайлович
Ошибка в тексте ?
Выделите ее мышкой и нажмите
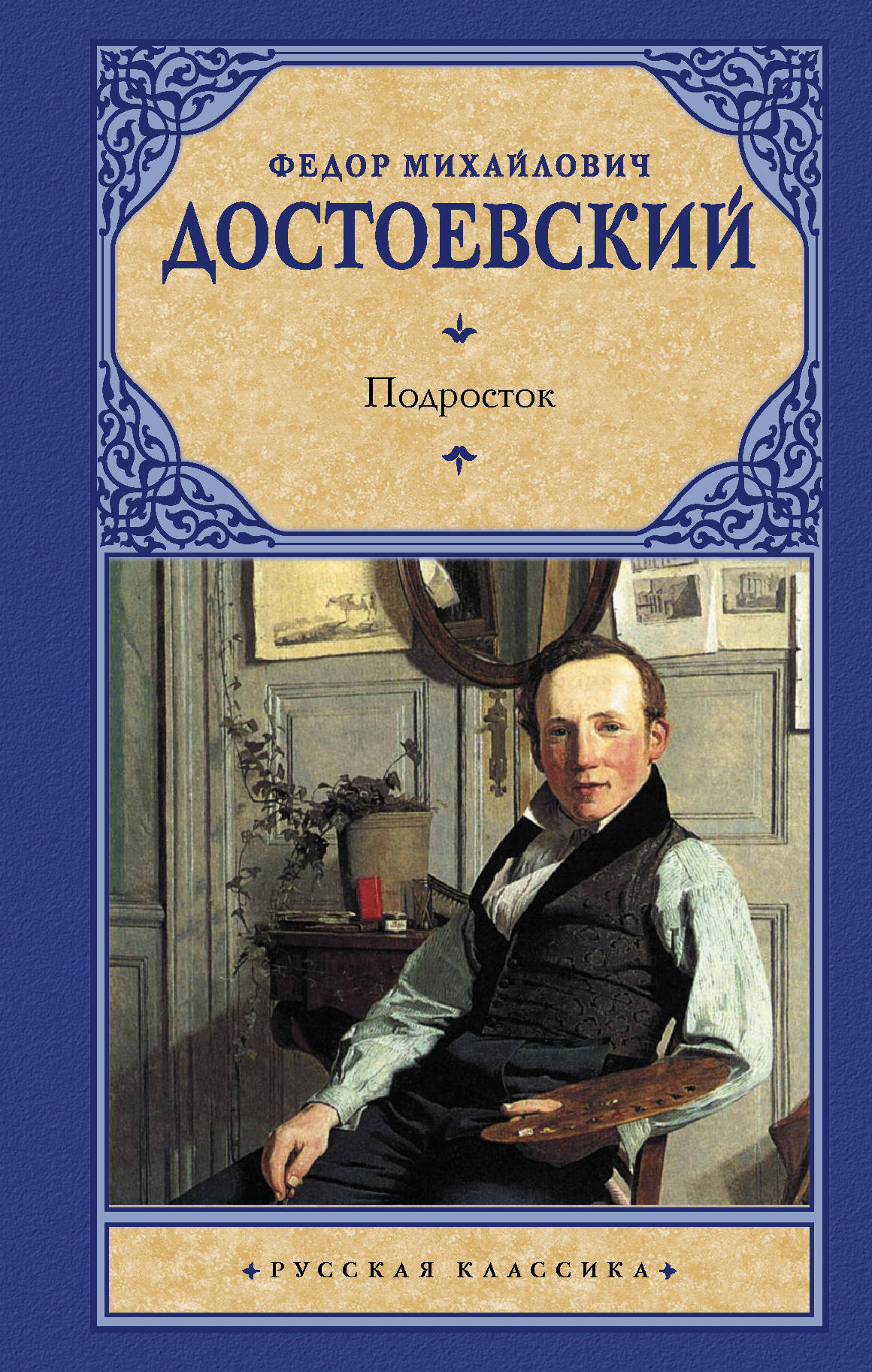
Для Достоевского, по собственному его наблюдению, сделанному в «Предисловии к публикации перевода» самого известного романа В. Гюго, литература и шире искусство XIX века было неразрывно связано с «мыслью христианской и высоконравственной». Последнее справедливо и в отношении романа «Подросток». Еще в августовском и октябрьском номерах журнала «Путь» за 1930 год Р. В. Плетнев отмечал влияние Евангелия на произведения Достоевского. Указав на «легкiе намеки» Благой вести в «Неточке Незвановой», историк литературы, тем не менее, несправедливо обошел предпоследний роман писателя, невзирая на то, что в произведении есть прямая отсылка к евангельской притче о блудном сыне и восходящая к этому повествованию цитата. Более внимательные исследователи творчества писателя впоследствии не раз отмечали значение евангельского мотива для романа «Подросток». Однако, начиная с К. В. Мочульского сформировалась тенденция рассматривать в указанном контексте Андрея Петровича Версилова, а не главного героя и повествователя. «Так, – отмечает литературовед, – опрокидывается смысл евангельской притчи: не блудный сын возвращается к отцу, а “блудный” отец, оторвавшийся от родной земли и семейного корня, возвращается к сыну». Впоследствии Н. С. Изместьева заметила, что в романе идет речь о «блудных отцах»: «Таким образом, евангельская ситуация словно переворачивается. Герои меняются ролями, и роль «отца» выпадает на долю Аркадия Долгорукого. Остается разобраться в том, кто же из двух «блудных» персонажей младший и кто старший». Были, однако, и другие интерпретации, благодаря которым евангельский текст в романе рассматривался применимо к «подростку». В этой связи было бы любопытно понять, какой из подходов является более верным.
В январе 1876 года в связи с завершением «Подростка» Ф. М. Достоевский писал в своем дневнике: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении». Отсылка к евангельской притче в отношении к «отцу» общеизвестна. Она восходит к помете, оставленной в черновых рукописях к роману и звучит следующим образом: «Он (т. е. современный человек высших классов) как блудный сын, расточивший отеческое богатство. (Двугривенный действительно получили, по сто рублей за него своих заплатили.) Воротится (к народу), и заколют и для него тельца упитанного». Не менее прозрачна и параллель «блудный сын» – Аркадий, которая находит подтверждение в самом тексте произведения. В девятой главе первой части главные герой изрекает свое: «Когда требуют совесть и честь, и родной сын уходит из дому. Это еще в Библии». Исследователи также указывали на момент, когда в ответ на просьбу матери почитать что-нибудь из Писания, Аркадий выбирает Евангелие от Луки, то есть именно то повествование, в котором идет речь о блудном сыне. Между тем, наряду с буквальным пониманием этого библейского сюжета (уход сына из дома и последующее возвращение скитальца) с давних пор существовало и аллегорическое. По словам таких экзегетов, как святитель Иоанн Златоуст и Григорий Палама, блаженный Иероним Стридонский и Евмимий Зигабен под человеком, имущим два сына, Господь подразумевает Себя. В образе ушедшего «на страну далече» святоотеческая мысль видит грешника, который через покаяние возвращается лоно Отчее. Как следствие, художественная рецепция притчи о блудном сыне в романе «Подросток» оставляет возможность, как минимум, еще для двух интерпретаций: возвращение Версилова к Богу и возврат ко Христу Аркадия. Для Андрея Петровича персонифицированным выражением божества становится представительница из народа – Софья Долгорукая. Образ кроткой и смиренной женщины в сочетании с ее именем говорит о премудрости Божией. Как показал Садаеси Игэта источником «понятия Софии» у Достоевского могло быть опубликованное в 1861 году исследование Ф. И. Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства». В десятой главе второго тома этого обширного труда историк литературы отмечает: «По древнейшему учению византийских писателей, приведенному митрополитом Евгением в описании Киево-Софийского собора, св. София толкуется Словом Божиим и Иисусом Христом». Распространяя рассуждения Игэта на роман «Подросток» Т. А. Касаткина провела параллель между Софьей Долгорукой, «вечно находящейся на страже у дверей души Версилова и так до конца романа и не дождавшейся, чтобы они отворились» и Самим Христом. Несмотря на справедливость аналогии София – Христос, нельзя согласиться с выводом о душевной никчемности Версилова, который сделала исследователь. В «конце романа» о герое говорится, что он не только «с умилением засматривает» некогда оставленной им женщине в глаза, но и получил «дар слезный». В свете характерного уточнения, сделанного рассказчиком, а именно: «как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце», возникает мысль о глубоком покаянии Андрея Петровича. Ведь упоминаемый купец не только «воспомнил всех, кого обидел», но и «деньги стал выдавать безмерно». Не случайно здесь и другое сравнение – Версилова с ребенком: «с нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя». Именно детское простодушие Господь поставил во главу спасения: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Таким образом, можно говорить о том, что «двери души» Версилова отворились не только для матери Аркадия, но и для Самого Христа. В этом смысле сюжет о блудном сыне обретает не только культурное выражение – возвращение «человека высших классов» в народ, о чем писал Достоевский в черновиках к роману, но и сакральную плоскость – возвращение грешника ко Господу.
Но если для Версилова воплощенной идеей Бога стала дворовая София Долгорукая, для главного героя – «подростка» эта идея сопряжена с образом самого Андрея Петровича. Несмотря на всю противоречивость «хищного типа», невзирая на его двойничество, именно этот персонаж послужил воскрешению Аркадия. Воссоединение, примирение с родным отцом стало основанием для метанойи сына. Говоря о духовной перемене, произошедшей в главном герое под воздействием его родителя, нельзя не упомянуть о пьедестале Аркадия, об его идее. Идея главного героя – с самого зарождения идея антихристианская. В. Н. Захаров, посвятивший символике церковного календаря в произведениях Достоевского отдельную статью, отмечал особое значение даты 15-е ноября: «Когда в романе… герой пишет: “резко отмечаю день пятнадцатого ноября”, то эта дата о многом говорит: 15-го ноября начинается Филлипов, или Рождественский пост; но когда в “Заключении” возникает тема Великого поста и накладывается на идею “записок” Аркадия Долгорукого, ясно, что и это неслучайное совпадение: и Рождественский, и Великий пост содержат идею нравственного совершенствования человека, его духовного приготовления к Рождеству и Пасхе». Между тем, для архитектоники всего романа гораздо важнее другая дата «церковного круга», на которую исследователь творчества писателя не указывает. В первой главе первой части «автобиографии» есть характерная запись: «Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех (то есть родных – Ю.Р.) и уйти в свою идею уже окончательно». «За месяц до девятнадцатого сентября», то есть, 6 августа празднуется память страстотерпцев Бориса и Глеба. Таким образом, Достоевский показывает в свете тех, кто смирился даже до смерти ради нерушимости братских уз идею главного героя, который «порешил» от них «всех» отказаться. Идея не только затмевала собой стыд, или по словам рассказчика прятала за собой мерзости, но и входила вразрез с христианскими заповедями: «Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру: “Э, у меня “идея”, а это все мелочи”». В порабощенности собственным величием герой идет дальше христианского гуманизма, отрицая гуманизм вообще. Опомнившись после смерти младенца Ариночки, которая обошлась всего в тридцать рублей, герой сетует на то, что оказался способным пожертвовать разом все, «что уже годами труда сделал для “идеи”». Соседствуя с «идеей», порождая одно другое, в сердце Аркадия находится стремление судить своего отца: «Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека». Но именно «этот человек», именно Версилов становится причиной краха антигуманных, антихристианских взглядов Аркадия. По мере того, как «образец равнодушия и высокомерия» обретает человеческие черты в глазах сына, становится способным к высшим чувствам и душа последнего. В евангельской притче есть поразительный момент, свидетельствующий о великом милосердии родителя: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк. 15:20) Версилов идет в своей милости дальше добродетели библейского родителя и «бежит» к заблудшему отпрыску своему и тогда, когда тот и не думает сделать первый шаг к примирению. В первый раз на третий день после разрыва приходит Андрей Петрович к Аркадию, который, будучи сухим и рассудочным носителем «идеи», вдруг становится способным на благодарные слезы: «В первый раз заплакал с самого Тушара!», – признается автор «записок». В другом месте главный герой отмечает, что воскрешению в нем нежных чувств служило смирение отца: «Вот это-то смирение предо мной от такого человека, от такого светского и независимого человека… разом воскрешало в моем сердце всю мою нежность к нему и всю мою в нем уверенность». Следующим этапом воскрешения души «подростка» стало возвращение Версиловым наследства. Согласно первому замыслу, событие произвело на Аркадия действие настолько колоссальное, что он разом пересмотрел свои взгляды на использование документа, Достоевский оставляет в черновиках к роману характерное замечание: «Это страшно повлияло на Подростка, и он решил: никогда и ни за что не пользоваться документом против Княгини. ЭТО НИЗКО!». В последней редакции произведения этих слов уже нет, но есть другие, восходящие к евангельскому повествованию о блудном сыне. «Ибо сей человек “был мертв и ожил, пропадал и нашелся”!». В тексте это выражение характеризует Версилова. Именно в таком ключе оно обычно анализируется исследователями творчества писателя. Но это только верхний слой текста, гораздо важнее подтекст цитаты. Например, очевидно, что стремящийся жить по 10 христианским заповедям и наставляющий в этом сына Андрей Петрович вовсе и не был духовным мертвецом. В то время, как соседство цитаты с последующей первой чистосердечной исповедью главного героя Васину, наделяет слова о смерти и воскрешении новым содержанием, являясь выражением духовной перемены в самом Аркадии. Именно он ожил, именно он стал способным к метанойе: «…Я пришел в восторг искренний, полный, с раскаянием и стыдом осуждая мой цинизм и мое равнодушие к добродетели…» И если не раскалывается идея, то дает трещина гордыня Аркадия («я дурен во многом») и его эгоизм («просто будем друзьями», – впервые говорит он сестре).
Настоящее таинство покаяния, связанное с обращением к Богу и исповеданием Бога происходит в душе Аркадия опять же в связи с поступком отца, когда тот добродушно признается, что денег его в наследстве князя Сережи нет ни копейки. В тот час желание объясниться перед родителем соседствует с обличением своей вины перед Отцом Небесным: «Я, впрочем, должен с ним объясниться... Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал... неловкое слово... мамочка, я врал: я хочу искренно веровать, я только фанфаронил, и очень люблю Христа…». В черновиках к роману Достоевский ищет соединение идей Макара Долгорукого и Версилова: «Макар. Христа познай и Его проповедуй, а делами пример подавай, и будет незыблемо. Тем всему миру даже послужишь. – Правда, – говорит Версилов, – Европа ждет от нас Христа. Она нам науку, а мы им Христа (в этом назначение России)». Но и в конечном варианте «Подростка» скиталец Версилов и странник Макар поучают Аркадия одному и тому же: «А ты их (т.е. заповеди – Ю.Р.) исполни, несмотря на все твои вопросы и сомнения, и будешь человеком великим», – наставляет Андрей Петрович сына. В некотором смысле, духовное сближение с отцом расщепляет атом личности Аркадия, делая его способным к восприятию Христа. После исповедания веры в Спасителя, «подросток» слышит странную проповедь матери: «Христос – отец, Христос не нуждается и сиять будет даже в самой глубокой тьме...». Эта оговорка неканонического характера – именование Сына Божия Отцом –кажется отнюдь не случайной. Она как бы соотносит в духовном смысле любовь к родному отцу с любовью ко Христу. Через первое приходит второе. Несомненно, например, что идея «подростка» трещит по швам из-за столкновения с подчас неясной, но все-таки вполне определенной христианской идеей Андрея Петровича. В черновиках эта линия видна совершенно отчетливо: Идея Версилова – это Христос. «Не умирал лишь бы Христос в русском сердце, и хоть бы ночь кругом, все-таки можно будет стремиться изо всех сил к светлой точке. Стало быть, жить будет весело, только бы идея не умирала. Вот когда умрет самая идея и примется европейская, не равенства внутреннего, а равенства механического, вот тогда всё пропало». И семя веры прорастает на почве сердца «подростка».
Итак, евангельская притча о блудном сыне актуализируется в отношении двух героев романа: Версилова и его сына – Аркадия, каждый из которых к концу произведения приближается к Богу в своем раскаянье. Воплощенной идеей Божества в первом случае согласно софийности у Достоевского является Софья Долгорукая, а во втором – сам Андрей Петрович. Особую роль играет и понятие благообразия странника Макара, которое словно помогает Аркадию, родившему свою антихристианскую идею в день Преображения Господня, благообразиться, преобразиться. Подлинного же апогея душевное благообразие «подростка» достигает «после исповеди Версилова». Впоследствии оно же сталкивается с «безобразием», то есть ревностью, ввиду подслушанных разговоров последнего с Катериной Николаевной. Вместе с тем, Аркадий поднимается над собой и не судит отца. «Таких людей надо судить иначе», – признается главный герой в девятой главе части третьей. И этой «инаковостью» является закон милости и сострадания. Не случайно последнее слово остается за Николаем Семеновичем – бывшим преподавателем Аркадия, как бы символизируя собой то, что Аркадий, некогда много осуждавший, – более не берется судить других, исполняя тем самым заповеданное: «не судите». В этом главное преображение души «подростка». Записки заканчиваются мыслью об университете, что говорит о начале большого пути не только в бытийном, но и в духовном смысле. Если прочитать желание обучаться наукам в контексте отраженной в черновиках мысли Версилова: «Она (Европа – Ю.Р.) нам науку, а мы им Христа», то финал кажется куда более значительным. После обучения в университете «подросток» может стать проповедником христианских идеалов и поборником Высшей Правды. По мысли святителя Григория Паламы, слова о юном возрасте младшего сына следует понимать в контексте его духовной незрелости («юнейший, то есть несерьезный, незрелый»), переосмыслив свой путь посредством древниковых записей, герой духовно взрослеет и пределом этого преображения является перстень и лучшая одежда - то есть добрые стороны души героя.
Автор: Юлия Ростовцева
