Ошибка в тексте ?
Выделите ее мышкой и нажмите
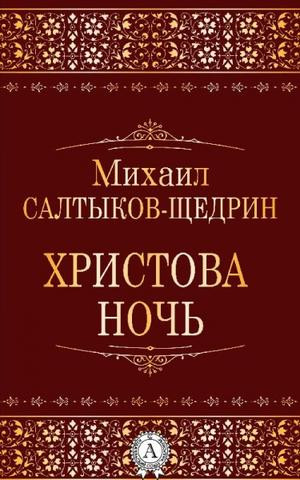
Описание произведения.
В «Христовой ночи» М.Е.Салтыкова-Щедрина автор создал пасхальный рассказ, в котором переплелись евангельские темы Воскресения Христова (Мф.28; Мк.16; Лк.24; Ин.20), Страшного Суда (Откр.4:2; Откр.20:4; Откр.3:21; Ис.66:15; Ис.6:1; Дан.7:10; Соф.2:2; Иоиль.3:12) и предательства Иуды (Мф.26:4; Мф.26:47; Лк.6:16; Мк.14; Лк.22:3; Лк.22:47; Ин.6:71; Ин.18:3; Ин.31:2; Ин.13:26; Деян.1:16; Мф.27:3). Открывается повествование описанием пейзажа, в котором доминантой звучит тема страдания и рабства: «Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой». С началом пасхального благовеста мрак начинает рассеиваться, и картина оживает. На пасхальную службу идут люди. «Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему Богу». Далее автор описывает празднично одетых, радостных богатых, которые думают только о праздничном столе. Затем наступает тишина и все замирает в ожидании Чуда. С восходом солнца является воскресший Христос. «Воскрес Бог и наполнил собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд». Первой прославляет воскресение Христово природа, звери и птицы.
Затем перед читателем разворачивается сцена суда, предваряющего Страшный Суд. Воскресший Бог так обращается ко всем страдальцам: «Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадальцы мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, — тут же пролита и Моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в Меня, потому только, что проповедь Моя заключает в себе правду, без которой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад кромешный. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя — вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия». Далее Господь вспоминает, что сострадание к людям и скорбь наполняли Его сердце в Гефсиманском саду и предрекает страдальцам новую жизнь в Царстве света, добра и правды. Предостерегая от лжи, призывая сохранять сердца чистыми и простыми, Христос благословляет народ: «Мир вам!».
С обличением обращается Христос к богатым, к мироедам и неправедным судьям. Жажда власти и страсть сребролюбия поглотили их души. Но и для них не закрыт путь к покаянию. «Во имя моего воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь — суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети — отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, — тогда, тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общею трапезой в обители моей. Идите же и знайте, что слово мое — истина!».
Затем в стороне леса, где заалел восток, появляется фигура повешенного. Это Иуда, предавший Христа. Ему закрыт путь ко спасению. Он проклят. Но в фантазии Салтыкова-Щедрина не адские муки ожидают Иуду. Христос за предательство приговаривает его на жизнь среди людей, на скитание. «Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери — и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе — и тебе подадут камень; ты будешь жаждать — и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпьями». В финале Иуда берет посох и отправляется в путь. И до сей поры, он ходит по миру, раздор и смута сопутствуют ему.
Сам автор в подзаголовке называет «Христову ночь» преданием. Более точно это произведение было бы назвать фантазией на христианскую тему. Православная Церковь всегда свято хранила не только сам текст Священного Писания. Предание, то есть то, что передавалось от одного поколения христиан другому, включает и определенное Святыми Отцами понимание евангельских образов и событий. Салтыков-Щедрин слово «предание» в данном случае употребляет в его светском понимании, как синоним легенды. В «Христовой ночи» писательские фантазии переплетены с христианскими истинами. В чем-то автор оказывается близок к православному толкованию Священного Писания, а где-то он полностью расходиться с Православием.
Когда Христос говорит о чистоте сердца, об униженных и оскорбленных, о покаянии грешников, о Царстве небесном, то автор оказывается близок к православному мировоззрению. Однако об аде он говорит только образно, относя его к этой земной жизни. Кроме того, писатель совершенно игнорирует дьявола, как источник зла. Но наиболее явные искажения православного учения мы встречаем в трактовке Салтыковым-Щедриным образа Иуды. За что проклят Иуда? В понимании писателя за предательство. Но, ведь и апостол Петр предал Христа. Почему же один осужден навеки, а второй оправдан. Как выражает православное учение об Иуде толкователь Евангелия Феофилакт Болгарский, он осужден за отчаяние и самоубийство: «Раскаивается (Иуда), но не верит в Божье прощение. Сознаться - хорошо, но удавиться - дьявольские дело. Не перенося бесславия в будущем, сам себя лишает жизни, тогда как надлежало ему плакать и умолять Преданного». Осуждение Иуды на вечное скитание вновь выявляет неверие писателя в загробную жизнь и ад. Здесь Салтыков-Щедрин вплетает в повествование апокрифическую легенду об Агасфере, «Вечном жиде», отказавшем в помощи Христу, шествующему на Голгофу, и осужденного за это на вечные скитания до Второго Пришествия Христова.
История создания.
Рассказ «Христова ночь» входит в цикл из 32 сказок, основная часть которых написана М.Е.Салтыковым-Щедриным в конце жизни, в 1880-е годы. Первая публикация этой сказки датирована 7-м сентября 1886 года. Однако в марте, в одном из писем, писатель рассказывает о том, что пишет сказку для пасхального номера «Русских ведомостей», но признается, что вряд ли успеет к сроку. По мнению исследователей, речь шла именно о «Христовой ночи», единственном посвященному Пасхе произведению цикла. Также в письмах писателя сохранилось разрешение на перевод сказки на немецкий язык.
В воспоминаниях близкого друга Салтыкова-Щедрина, Логина Пантелеева, сохранился интересный отзыв о произведении знаменитого художника В.В.Верещагина: «Ему, как художнику, особенно понравилось самое начало — картина природы, а маленький штрих — «на темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей», положительно привел его в восторг. — Вот никак не думал, что у сатирика была такая способность к художественному восприятию внешних явлений!». Сказка «Христова ночь» после первой публикации вошла в список девяти сказок, запрещенных цензурой к печати.
Отношение автора к вере.
Миф о том, что М.Е.Салтыков-Щедрин был атеистом, создан советскими литературоведами. Он воспитывался в православной семье, получил религиозное воспитание. В имении Салтыковых была домовая часовня. Отец писателя много сил и средств отдавал на строительство храмов.
В автобиографической книге «Пошехонская старина» устами главного героя, Никанора Затрапезного, писатель так передал свой личный опыт соприкосновения с евангельской истиной: «Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот. Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня... Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания». Всю свою жизнь и талант Салтыков-Щедрин посвятил литературе и обличению социальных недостатков, несправедливости властей и страданиям простого человека. Так в его творчестве воплотилась вторая заповедь о любви к ближнему. Именно Евангелие, прочитанное в детстве, открыло ему всю глубину человеческого страдания и путь служения ближнему.
В очерке «Христос воскрес!» Салтыков-Щедрин так описывает свое проживание Пасхи: «И я тоже с каким-то особенным, давно непривычным мне чувством радости выслушал утреню и вышел из церкви, вынося с собою безотчетное и светлое чувство дружелюбия, милосердия и снисхождения. «Христос воскрес!», — думал я. — Он воскрес для всех; большие и малые, иудеи и еллины, пришедшие рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие — все мы равны пред его воскресением, пред всеми нами стоит трапеза, которую приготовила победа над смертью». Однако, вера Салтыкова-Щедрина была не тверда, она не принесла ему утешения при столкновении с лежащем во зле мире. Увлечение писателя антихристианской литературой, французскими утопистами Сен-Симоном, Фурье и сочувствие идеям петрашевцев не прошло для души бесследно. Произведения Салтыкова-Щедрина полны горечи и сострадания, но это сострадание человека, который бессилен что-либо изменить, который жаждет торжества справедливости здесь, в земной жизни. Делом своей жизни Салтыков-Щедрин избрал служение Отечеству и обличение несправедливости мира в своем творчестве. Он видел зло везде, но не замечал добра.
Не найти у Салтыкова-Щедрина русских праведников, чистых душ, молитвенников. Тех, кто силой веры спасая свою душу, светом добра и любви преобразует все вокруг. Нет такого святого человека в творениях писателя, но Бог дал ему встретить праведника в реальной жизни, на самом ее закате. По свидетельству сына писателя, за два месяца до смерти Салтыкова-Щедрина посетил отец Иоанн Кронштадтский, прославленный Православной Церковью как святой. Тяжело больной писатель долго беседовал с о. Иоанном. Что произошло за закрытыми дверьми между писателем и батюшкой, никто из домочадцев так и не узнал. «Затем, -вспоминает сын Салтыкова-Щедрина, - батюшка попросил поставить посередине гостиной столик с иконой, поставил папу на колени и начал читать молитву. Читал он ее невнятно, порывисто, особенно ударяя на некоторые слова, как бы споря с кем-то невидимым. Это чтение производило какое-то жуткое впечатление на нас, тоже благоговейно опустившихся на колени. Наконец о. Иоанн закончил свою молитву и, дав отцу приложиться к св. кресту, пригласил и всех бывших в квартире сделать то же самое». Есть надежда, что в конце жизни писатель обрел покой, что умер Салтыков-Щедрин как настоящий христианин, причастившись Святых Христовых Тайн.
Биография.
В 1826 году, в имении коллежского советника Евграфа Салтыкова родился шестой ребенок. Мальчика нарекли Михаилом. Начальное образование дети Салтыковых получали дома. В 10 лет Миша Салтыков поступил в Московский дворянский институт, но через два года, благодаря проявленным незаурядным способностям, был принят в знаменитый Царскосельский лицей. По окончании лицея будущий писатель поступает на государственную службу в Военное Министерство. Публикация отличавшихся вольнодумными идеями «Противоречий» и «Запутанного дела», а также посещение «пятниц» кружка петрашевцев, привели к тому, что молодого чиновника отправили в служебную командировку в Вятку. Сам он воспринимал ее как ссылку. Здесь он встретил свою супругу. Семь лет прослужил Михаил Салтыков в Вятке, заслужив репутацию честного чиновника, не берущего взяток. Псевдоним Щедрин, по одной из версий, также имеет вятское происхождение. Такую фамилию носил старообрядец, дело которого вел будущий писатель. Творческим итогом вятской ссылки стал сборник, опубликованный под названием «Губернских очерков».
С 1858 года, в течение 10 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин занимает высокие посты вице-губернатора Рязани, потом Твери, председателя Казенной палаты в Пензе и Туле. В это же время он много публикуется в журналах «Современник», «Московские ведомости», «Библиотека для чтения». Все эти годы чиновник мечтал оставить службу и полностью посвятить себя литературе, но долгое время этим мечтам не суждено было реализоваться. В 1862 году крахом закончилась попытка основать собственный журнал. Попытка уйти со службы и жить только на гонорары писателя также не удалась. Только в 1868 году, в чине действительного тайного советника, М.Е.Салтыков-Щедрин уходит в отставку. В 1877 году сбылась еще одна мечта писателя, он возглавил журнал «Отечественные записки». Когда спустя семь лет журнал был закрыт, это стало жизненной трагедией Салтыкова-Щедрина. Однако он продолжает много писать. В 1880 году выходит его роман «Господа Головлевы», в 1886 - цикл сказок, в 1889, в последний год жизни писателя, опубликован его автобиографический роман «Пошехонская старина». Умер М.Е.Салтыков-Щедрин 10 мая 1889 года.
Составитель текста: Яфанова Марина Андреевна.
Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.
Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним – третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатей, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.
Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения, – как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый бог! воскрес бог, к которому искони огорченные и недугующие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»
Воскрес бог и наполнил собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»
Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:
– Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспеяния. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество. Нет нужды, что человек мало‑помалу проникает в ее недра – он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи моего воскресения!
Благословивши природу, воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда он сказал им: «Мир вам!» – то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.
И сердце воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельною скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед ним, несло бремя жизни имени его ради; все они первые приклонили ухо к его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих.
Всех их он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех он благословил, совершая свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут его и рвутся к нему. Все с беззаветною верою простирают к нему руки: «Господи! Ты ли?»
– Да, это я, – сказал он им. – Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадальцы мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, – тут же пролита и моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в меня, потому только, что проповедь моя заключает в себе правду, без которой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад кромешный. Люби бога и люби ближнего, как самого себя, – вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь мой в виде слез и воздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце мое. Знайте же: хотя никто не провидит вперед, когда пробьет ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово мое да будет истина. Мир вам!
Воскресший пошел далее и встретил на пути своем иных людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и неправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение воскресшего.
Он также остановился перед ними и сказал:
– Вы – люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие – вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы вселенною, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены, и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед и вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время – и недалеко оно, – когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые также познают свою силу; вы же сознаете свое ничтожество перед этою силой. Предвидели ли вы когда‑нибудь этот грозный час? смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?
Грешники безмолвствовали на этот вопрос. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда воскресший продолжал:
– Но во имя моего воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь – суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети – отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, – тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общею трапезой в обители моей. Идите же и знайте, что слово мое – истина!
В эту самую минуту восток заалел, и в редеющем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; вороны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.
То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.
Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор воскресшего воспылал гневом.
– О, предатель! – сказал он, – ты думал, что вольною смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдною жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобой, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему душевное погубление. «Единый миг, – сказал ты себе, – и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с древа, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!
По этому слову, перед глазами у всех, предатель сошел с древа и пал на землю перед воскресшим, моля его о возвращении смерти.
– Я всем указал путь к спасению, – продолжал воскресший, – но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери – и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе – и тебе подадут камень; ты будешь жаждать – и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпьями. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах – и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обретешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души облагодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! – возопиют они, – будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в сердце, с погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми, вместо посоха, древесный сук, на котором ты чаял найти смерть, – и иди!
И едва замерло в воздухе слово воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеевая смуту, измену и рознь.
