«Старосветские помещики» - Гоголь Николай Васильевич
Ошибка в тексте ?
Выделите ее мышкой и нажмите
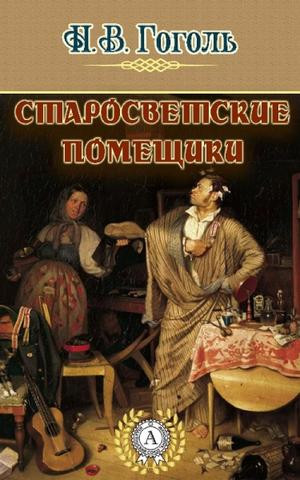
Описание произведения.
Жизнеописание старосветских старичков-помещиков может трактоваться как образец гармоничного брака, в котором супруга с некоторыми оговорками воплощает христианские начала, а муж — языческие, а совместно они дорастают едва ли не до святых преподобных Петра и Февронии. Но что-то противится такому впечатлению: ведь жизнь старичков, несмотря на очевидную её гармонию, не подразумевает поначалу духовного, а тем более христианского, единения — это единение душевное, порождённое многолетней привычкой друг ко другу. Есть некое духовное нечувствие в этой однообразной, изо дня в день повторяемой, жизни двух привязанных друг к другу людей. Правда, это не исключает и христианских понятий, усвоенных супругами на уровне традиции, передающейся от отца к сыну. Пульхерия и Афанасий Ивановичи составляют единый, в виде двух пробирок, соединённых невидимой трубкой с непрестанно перетекающим туда-сюда живоносным составом, — организм, ни одно из составляющих которого не может функционировать отдельно. Раз навсегда омертвевшая жизнь, как оказывается, за счёт общего кровообращения может согреваться любовью, облегчающей переход в мир иной.
Показательна скорбь Афанасия Ивановича после смерти супруги: он скорбит о ней, как об оторванной частице себя самого. Аналогичны и ощущения Пульхерии Ивановны перед кончиной. Она спокойно отдаёт распоряжения, касающихся её похорон, заботится об остающемся в одиночестве Афанасии Ивановиче, и даже утешает его в его естественной скорби: «Вы однако ж не горюйте за мною: я уже старуха, и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете». Но Афанасий Иванович рыдал, как ребёнок. «"Грех плакать, Афанасий Иванович! <…> и я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами”. При этом на лице её выразилась такая глубокая, такая сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы в это время глядеть на неё равнодушно». Автор считает нужным добавить свой комментарий: «Бедная старушка! — она в то время не думала ни о той великой минуте, которая её ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни …».
Эта смерть поражает душу никогда, кажется, не чуявшего дыхания вечности Афанасия Ивановича. Вся дальнейшая жизнь его и есть прислушивание к этому дыханию, всё чаще доходящему до него из другой жизни. Так ушедшая Пульхерия Ивановна открывает супругу дверь в жизнь вечную. Начался этот сдвиг уже во время погребения жены: «Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: “Так вот это вы уже и погребли её! Зачем?” — он остановился и не докончил своей речи. <…> он рыдал, рыдал неутешно, и слёзы, как река, лились из его тусклых очей».
«Боже! — удивляется повествователь, увидевший его пять лет спустя, — пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушёных рыбок и груш, из добродушнейших рассказов — и такая долгая, такая жаркая печаль? Что же сильнее над нами — страсть или привычка? Что бы то ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, бесчувственной привычки». Фиксируется немощь быстро выкипающих страстей перед постоянством привычки, соединяющей одного человека с другим — навечно. Существенно и добавление автора вскользь: «Он не долго после того жил».
Именно здесь едва ли не впервые во всём творчестве Гоголя возникает образ души, окликаемой из мира иного: «Он вдруг услышал, что позади его произнёс кто-то довольно явственным голосом: Афанасий Иванович! … Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнёс: “Это Пульхерия Ивановна зовёт меня!” — Он <…> покорился с волею послушного ребёнка, сохнул, кашлял, таял как свечка, и, наконец, угас».
Только с кончиной Пульхерии Ивановны, Афанасий Иванович смог услышать зов иной жизни, одновременно ощутив отлетевшую от него ту часть души, которую воплощала собой его супруга.
Гоголь показывает, как два совершенно разных человека становятся единым целым, описывает этапы сращения перед соединением их в одно, наконец, наглядно изображает потрясение, сходное с катарсисом, которое испытывает оставшаяся сиротой одна половинка после смерти другой. И, тем самым, обращается к духовной сфере человеческого единения и следующего спасения друга — другом, которую до него исследовал апостол Павел. Воистину: «Почему ты знаешь, жена, не спасёшь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасёшь ли жены?». (1 Кор. 7:16).
История создания.
Повесть «Старосветские помещики» была впервые опубликована в составе сборника «Миргород» в 1835 году. В ней отразились малороссийские впечатления автора. Исследователи считают местом действия повести гоголевскую вотчину Васильевка. Оттуда же и прототипы героев: Татьяна Семёновна Лизогуб, бабушка писателя, и дед его, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский. История их женитьбы очень похожа на ту, которая излагается в повести. Афанасий Демьянович в своё время учился в Киевской духовной академии. Встретив Татьяну Семёновну и влюбившись, он похитил будущую супругу из дома родителей и женился без их благословения.
Сказались в повести и новые запросы Гоголя к своей малой родине, характеры земляков он осмысливает гораздо глубже, чем-то было в «Вечерах…», появляются и социальные акценты (в финале выразительно представлен образ поколения бездушных дельцов, сменивших украинскую шляхту старого времени). И, что важнее, религиозные, — именно в эти годы углубляется христианская вера Гоголя.
В «Старосветских помещиках» Гоголь апробирует новый тип рассказчика — характер изложения событий соответствует свойствам миролюбивого, элегически вспоминающего добрые старые времена, человека, и таких же добрых, как он сам, людей, которые начинают исчезать с жизненного горизонта не настроенного на элегичность века.
Отношение автора к вере.
Гоголь – писатель, не имеющий равных даже на фоне богатой мощными, необычными дарованиями русской литературы. Исключительность Гоголя определяется христианской сверхзадачей его творчества и православным мировоззрением. Любое наугад взятое его произведение представляет, при внимательном вглядывании, систему выраженных религиозных символов и ассоциаций, с тенденцией в сторону мнимого их снижения.
Дар веры, проявившийся в нём с детства, Гоголь максимально воплотил в дальнейшей своей деятельности — даже до смертного часа.
Уже в ранней повести диканьского цикла «Майская ночь» появляется образ претворённой народным сознанием Лествицы преподобного Иоанна Лествичника, которая будет видеться Гоголю перед самой смертью. Со времени «Ревизора» творчество Гоголя устремлено к Богу. Гоголь стал первым русским писателем, сделавшим серьёзную попытку согласовать своё творчество и свой духовный путь, а это далеко не просто, — во всяком случае, на этом пути у него не было и не могло быть советчиков.
И всё же он пытался это сделать: сочинил «Развязку “Ревизора”», где трактует свою комедию в религиозном духе; «Авторскую исповедь», в которой по-христиански истолковывает свою жизнь и деятельность; переписывает некоторые из ранних произведений, пытается написать в духе нравственного назидания Второй том «Мёртвых душ» (пришлось сжечь, назидание — плохой помощник творчеству).
С начала сороковых годов, ко времени издания трудно пишущейся поэмы, он увлекается аскетизмом, и ему кажется, что его призвание — быть монахом. В феврале 1842 года он признаётся поэту Языкову: «Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. <…> Я не рождён для треволнений и чувствую с каждым днём и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». После этого Гоголь делает несколько попыток распроститься с литературой и принять постриг в одном из монастырей, но в послушники его не взяли. — Он становится монахом в миру: отказывается от имущества, денег, ведёт уединённый образ жизни. Читает святоотеческую литературу. Изучает богослужение, пробует сочинять молитвы, пишет ряд трудов, объясняющих таинства Божественной литургии.
После длительных странствий по Европе и паломничества в Иерусалим, он оседает в Москве, находит себе духовного отца (о. Матвей Константиновский), в целях укрепления веры посещает Оптину пустынь и Свято-Сергиеву Троицкую Лавру.
Умирает после подготовки к таинству смерти, регулярно постясь и причащаясь Святых Христовых Таин. «Я не совращался с своего пути. Я шёл тою же дорогою <…> — и я пришёл к Тому, Кто есть источник жизни».
Биография.
Н.В. Яновский (с 1821 г. Гоголь-Яновский) родился в с. Большие Сорочинцы Полтавской губернии 1 апреля 1809 г. Детство провёл в родовом поместье. Закончил Гимназию высших наук в Нежине (1821-1828 гг.).
В декабре 1828 года Гоголь переехал в Санкт-Петербург, пробовал поступить на сцену. В 1829-31 гг. прослужил полтора года помощником столоначальника департамента уделов Министерства уделов, с младшим чином по Табели о рангах — коллежского регистратора.
В 1831 и 1832 годах двумя частями вышли в Петербурге «Вечера на хуторе близ Диканьки, Повести, изданные пасичником Рудым Паньком». — Это принесло Гоголю известность и знакомства в литературных кругах.
Следующими сборниками стали «Арабески», затем «Миргород» (в двух частях). Оба сборника вышли в 1835 г. Слава Гоголя вошла в зенит.
В феврале 1831 года, по просьбе Жуковского и при ходатайстве Плетнёва, Гоголь взят на должность учителя в Патриотическом институте. Его знакомят с Пушкиным. В 1834 году е— назначение на должность адъюнкта по кафедре истории в Петербургском университете.
В 1832 году писатель, по дороге на родину, побывал в Москве, где познакомился с людьми, которые стали потом его близкими друзьями: с Михаилом Погодиным, Михаилом Максимовичем, Михаилом Щепкиным, Сергеем Аксаковым.
Вернувшись в Петербург, Гоголь в начале тридцатых годов работает над повестями «Коляска», «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего». К 1834 году относят первый замысел «Ревизора». Комедия появилась в печати в 1836 году; постановка смогла осуществиться только по воле императора Николая и была им одобрена.
В июне 1836 года Гоголь уехал за границу, где пробыл с перерывами около десяти лет. В Париже он получил известие о смерти Пушкина, страшно его поразившее. В 1837 г. в Риме, Гоголь усиленно трудился над «Мёртвыми душами», задуманными ещё в Петербурге в 1835 году; здесь же, закончил «Шинель», писал повесть «Анунциата», переделанную потом в «Рим».
Осенью 1839 года он, вместе с Погодиным, отправился в Россию, в Москву, где его встретили Аксаковы. В Петербурге и в Москве он читал ближайшим друзьям законченные главы «Мёртвых душ». Устроив свои дела, Гоголь опять в Риме. К лету 1841 года первый том был готов. В сентябре этого года Гоголь едет в Россию печатать свою книгу, которая вышла в свет в Москве.
В июне Гоголь живёт в Риме, Франкфурте, Дюссельдорфе, в Ницце, в Париже, в Остенде, в кружке своих ближайших друзей — Жуковского, Смирновой, Виельгорских, Толстых, и в нём развивается то религиозно-пророческое направление, которое вскоре будет доминировать.
Летом 1845 года Гоголя настигает мучительный душевный кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ», издаёт «Выбранные места из переписки с друзьями». В конце 1847 года Гоголь переехал в Неаполь, и в начале 1848 года отплыл в Палестину, откуда через Константинополь и Одессу вернулся окончательно в Россию.
Блуждает по России: в деревне у матери, в Калуге у Смирновой, в Одессе, а с осени 1851 года поселяется в Москве, где живёт в доме своего друга графа Александра Петровича Толстого на Никитском бульваре.
Здоровье его всё более слабело. С конца января 1852 года в доме графа Толстого гостил ржевский прот. Матфей Константиновский. Он высказался против публикации ряда глав «Мёртвых душ», «даже просил уничтожить» их» (ранее он дал отрицательный отзыв на «Выбранные места …», назвав книгу «вредной»).
После отъезда о. Матфея, Гоголь отказывается от еды, не выходит из дома. В 3 часа ночи 11—12 февраля 1852 года, на первой седмице Великого поста, Гоголь сжигает ряд своих произведений, в том числе и Второй том «Мёртвых душ». 18 февраля слёг в постель и совсем перестал есть. Молится, сознательно готовится к смерти. Умер утром в четверг 21 февраля 1852 года, не дожив месяца до своего 43-летия.
Автор текста: Виталий Яровой.
