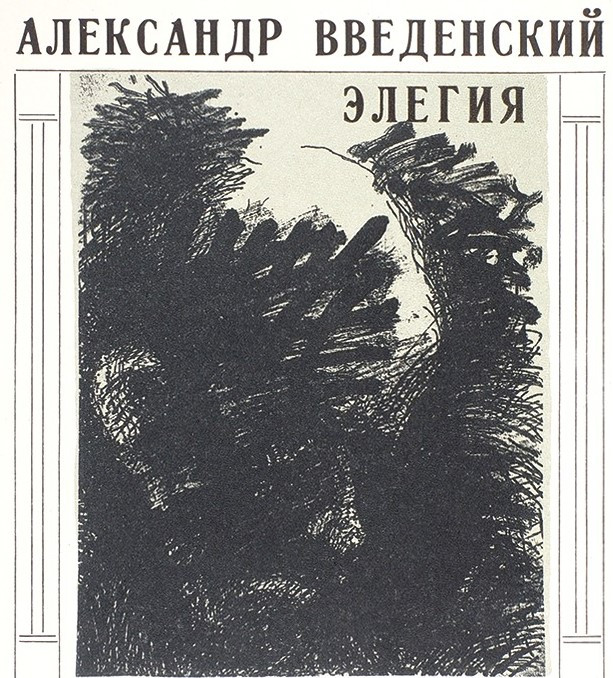«Элегия» - Введенский Александр Иванович
Ошибка в тексте ?
Выделите ее мышкой и нажмите
ЭЛЕГИЯ
Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.
Осматривая гор вершины,
их бесконечные аршины,
вином налитые кувшины,
весь мир, как снег, прекрасный,
я видел горные потоки,
я видел бури взор жестокий,
и ветер мирный и высокий,
и смерти час напрасный.
Вот воин, плавая навагой,
наполнен важною отвагой,
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в могучие ладони
кладет огонь лихой погони,
и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.
Где лес глядит в полей просторы,
в ночей неслышные уборы,
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной,
в пустом сомненье сердце прячем,
а в ночь не спим томимся плачем,
мы ничего почти не значим,
мы жизни ждем послушной.
Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно
и Бог нам не владыка.
Цветок несчастья мы взрастили,
мы нас самим себе простили,
нам, тем кто как зола остыли,
милей орла гвоздика.
Я с завистью гляжу на зверя,
ни мыслям, ни делам не веря,
умов произошла потеря,
бороться нет причины.
Мы все воспримем как паденье,
и день и тень и сновиденье,
и даже музыки гуденье
не избежит пучины.
В морском прибое беспокойном,
в песке пустынном и нестройном
и в женском теле непристойном
отрады не нашли мы.
Беспечную забыли трезвость,
воспели смерть, воспели мерзость,
воспоминанье мним как дерзость,
за то мы и палимы.
Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
Они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя -
сходить с ума не надо.
Пусть мчится в путь ручей хрустальный,
пусть рысью конь спешит зеркальный,
вдыхая воздух музыкальный -
вдыхаешь ты и тленье.
Возница хилый и сварливый,
в последний час зари сонливой,
гони, гони возок ленивый -
лети без промедленья.
Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами,
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.
1940 г.
Описание произведения.
Написанное незадолго до смерти стихотворение Введенского — это глубочайшее духовное покаяние перед Богом, приносимое автором не только за себя и за своё поколение, но и за поколение отцов и погубленную ими страну. Этот распад предстает в Элегии в элементах и детально наглядной и мощно-образной системы.
Самая загадочная и высокая в стихотворении — это, пожалуй, начальная строфа, задающая тон всему тексту: «Осматривая гор вершины, / их бесконечные аршины, / вином налитые кувшины, / весь мир, как снег, прекрасный, / я видел горные потоки, / я видел бури взор жестокий, / и ветер мирный и высокий, / и смерти час напрасный».
Её можно было бы расшифровать так: гор вершины — это место, откуда должно придти избавление от существующего беспорядка жизни в виде благой вести. Или же — это бесконечность духовного опыта, выраженного в высоком символе — так, как и в позднейшей поэме «Где. Когда», в которой именно с гор спускаются священнослужители, чтобы совершить литургию на почти обезлюдевшей земле. Сходный характер носят и другие образы этой строфы, например, горные потоки, или ветер мирный и высокий. «Вином налитые кувшины» — отсылают нас к Евангельскому тексту, например, к притче о брачном пире или к эпизоду пира в Кане Галилейской, где присутствовал Спаситель, — пире, подобном тому, что будет в Царстве Небесном для тех, кто придёт вкусить этого вина. Образ Божьего Царства продолжен в следующей строке: «весь мир, как снег прекрасный». — Абсолютная белизна снега подобна чистейшей красоте Царства Небесного. Подобна она и белизне одежд тех, кто удостоится быть на этом пире (вспомним ещё ослепительную белизну одежд Спасителя, которую созерцают апостолы во время Его Преображения). Строка «я видел бури взор жестокий» не нуждается в комментариях, ибо кто из поколения Введенского не видел этой бури? «Ветер мирный и высокий — это Бог, являющийся не в вихре страстей, не в буре революции, но в «гласе хлада тонка». На слова: «смерти час напрасный» стоит обратить особое внимание. Расшифровка этой и других соседствующих с ней строк будет приведена немного позже, а пока — о второй строфе, первую половину которой определяет образ воина: «Вот воин, плавая навагой, / наполнен важною отвагой, / с морской волнующейся влагой / вступает в бой неравный». Иероглиф моря, часто встречающийся в произведениях Введенского, как и во многих богослужебных песнопениях, обозначает море житейское, мирскую жизнь. Образ воина, этимология которого восходит к христианской экклезиологии, обозначает человека, не поддающегося волнениям и течениям этого моря. Но герой стихотворения явно не принадлежит к этому разряду. По мысли Введенского, он и его современники забыли ум, забыли трезвость — до того, что даже последнее, чем вразумляет Бог увязших и запутавшихся в жизненных перипетиях людей — смерть, их вразумить не может. Поэтому и назван последний час смерти напрасным в конце первой строфы.
Введенский и его современники, выключенные из мира чувств из-за охлаждения души безверием, глядят «в окно без шторы / на свет звезды бездушной, / в пустом сомненье сердце прячем», ибо сомненье и не может не отдавать пустотой: «сомневающийся не верен в путях своих», — по словам Псалмопевца; слова же: «мы ничего почти не значим, / мы жизни ждём послушной», аукаются с начальными словами следующей строфы: «мы друга предаём бесчестно»; их взаимосвязь просматривается с очевидностью, и тоже не требует комментариев, ибо для людей, предавших Бога («Бог нам не владыка»), дальнейшее предательство друзей и близких является закономерным и уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Следствие этого — тугость, пасмурность, тесность оскудевающей жизни и отсутствие восхищения, употреблённого здесь в святоотеческом смысле — восхищения как состояния воспарившего духа, о котором повествуют нам святые монахи-отшельники. Очевидно, что не ведающие этого впадают в состояние прямо противоположное: «Нам туго, пасмурно и тесно», — пишет Введенский. Отчего? — оттого, что с потерей Бога произошла и потеря ума, неразрывно связанная с неверием в собственные мысли и дела, что и отмечено в дальнейшем. Остается завидовать бездушному, но и безгрешному состоянию зверей, лишённых нравственного выбора — до того, что даже какие-то возможные просветы, связанные с проблесками веры, всё равно в этой среде будут восприняты как паденье (далее перечисляются термины, типичные для символистского интеллигентного сознания: день, тень, сновиденье, и, наконец, музыки гуденье, которое тоже, по Введенскому, «не избежит пучины»). Поэтому, не только желание возвращения, преданного и погубленного прошлого, но даже само воспоминание о нём теперь, в сороковые годы, когда писалось стихотворение, мнится «как дерзость».
Орлы освящают своим присутствием последнюю, подводящую итоги всему, о чём говорилось раннее, строфу «Элегии». Они в поэтике Введенского служат символом святости, понятие о которой утрачено его современниками: ведь они не нашли отрады ни в житейской борьбе, похожей на морской беспокойный прибой, ни в мыслях, которые обозначает, очевидно, пустынный и нестройный песок, ни в любви к женщине; здесь же звучит признание о воспевании смерти и мерзости.
Вполне закономерно, что далее, в седьмой строфе появляются ангелы смерти. Их движение уподоблено стремительному мельканию сливающихся между собой спиц, образующем некое подобие одежд. Ангелы эти считают время (т.е. ведут счёт делам человеческим), «испытывают бремя» (т.е. страдают за своих подопечных), и одновременно, поддерживают их, стремясь облегчить их участь (это положение находит косвенное подтверждение в словах героя: «сходить с ума не надо»), за которыми следует восьмая строфа, первая половина которой отличается относительно жизнеутверждающей интонацией, сниженной образом хилого и сварливого возницы «в последний час зори сонливой», и обращением к нему героя: «Гони, гони возок ленивый, / лети без промедленья».
И, наконец, последняя, заключительная строфа, в первом четверостишии которой в сжатом виде концентрированно выражена мысль русской истории — в образах из «Слова о полку Игореве» (первые две строки: «не плещут лебеди крылами / над пиршественными столами»). Медные же орлы, не имеющие повода трубить в победные рога, содержат посыл одновременно и к героям библейской древности, и овеянным воинской славой персоналиям русской истории, сравнения с которыми далеко не в пользу современников поэта. И, наконец, последнее, заключительное четверостишие — о самом последнем, что могло бы остаться, но не остаётся — лишь временами вспыхивающим вдохновеньем, за утерей которого неизбежно следует смерть, ибо нет не только вдохновенья, но даже и стимулов для него в обезбоженном, лишённом героизма и поэзии, истребляющем своих постояльцев времени.
История создания.
«Элегия» — одно из двух последних, может быть, и самое последнее произведение Введенского, в котором он подводил итог творчеству и жизни.
По свидетельству художницы Татьяны Глебовой, давней приятельницы Введенского, он, перед тем, как читать стихотворение близким друзьям в Ленинграде, куда он ненадолго приехал из Харькова перед войной, сказал ей, что «Элегия» отличается от его прежних вещей, а при чтении, согласно другому свидетельству, всё оставаясь неисправимым авангардистом, даже испытывал некое подобие стыда за её традиционность.
В «Элегии» заметно прозрение Введенским тогдашней действительности и обстоятельств времени, равно как и людей, в нём существующих, а также чистота восприятия того и другого в религиозном духе, восприятия в категориях беспримесного христианства. Здесь явна также тревога о своём внутреннем состоянии, наполненности или не наполненности души, утери в ней критериев Божественной правды. Сквозь озорство на грани метафизического фола проступает скрытая озабоченность, за озабоченностью — осознание, за осознанием — покаяние.
Отношение автора к вере.
Чуть ли не с самого детства Введенского всерьёз интересовали три категории: Бог, время, смерть. Отпущенную Богом жизнь он воспринимал как подготовку к смерти. О смерти он, отрешаясь от бытовых вещей и обстоятельств, постоянно думает, пишет, она ему всё время снится.
Мысль о смерти неизбежно связана с мыслями о Боге. Дорогой к Тому и другой он считал — время, понимаемое им как путь — в виде линии, отрезка или даже мерцания. Формального движения к Богу во внешней жизни поэта отыскать трудно. Зато на каких-то скрытых уровнях, если брать в расчёт темы его произведений, такое движение, несомненно.
Введенский смело может быть уподоблен персонажу с иллюстрации к одной из книг Фламмариона, который одновременно проводит жизнь в двух мирах — горнем и дольнем, отдавая видимое предпочтение второму.
Напряжённые поиски поэтом Бога в творчестве, не сказывались на его внешней жизни. На протяжении долгих лет, едва ли не до самой кончины, он оставался всё тем же рассеянным и праздным человеком, жуиром, дамским угодником, карточным игроком, каковым был в ранней юности.
И вдруг в конце жизни, двухчастная поэма «Где. Когда», которая пишется параллельно стихотворению «Элегия», заканчивается однозначным и окончательным выводом: «Последняя надежда — Христос Воскрес. / Христос Воскрес — последняя надежда». — Можно сказать, что вера в Бога Введенского росла и укреплялась невидимо для близких и дальних, оставляя следы в сердечных глубинах и в творчестве. Эпатаж высказываний на публику вполне мог отнести Александра Введенского в разряд еретиков. Недаром Яков Друскин позиционировал себя как чистого монофизита, Введенского — как частичного, Хармса — вообще относил к несторианам. — Все они выбрали путь внутреннего познания Творца глубиной своей интуиции, игнорируя богословие, познавая Христа жизнью и творчеством. Поэтому не следует искать в поэзии Александра Введенского чистоты богословской мысли, а в жизни поэта — верности церковным канонам. Но это не исключает напряжённой внутренней духовной жизни, о чём свидетельствует покаянное стихотворение «Элегия».
Биография.
Александр Иванович Введенский родился в Петербурге 23 ноября (6 декабря) 1904 года. 23 ноября Отец его, Иван Викторович, сын священника, дослужился до чина статского советника, при советской власти работал экономистом. Мать, Евгения Ивановна Поволоцкая, дочь генерал-лейтенанта, была известным врачом-гинекологом.
В 1914 году Александр Введенский вместе младшим братом Владимиром был определён в кадетский корпус в Санкт-Петербурге, однако в 1917 году братья были предусмотрительно переведены в гимназию, которую Александр окончил в 1921 году. В этой же гимназии учились Л.С. Липавский и Я.С. Друскин, его друзья на всю жизнь, и Тамара Александровна Мейер (в 1921—1930 годах — жена Введенского). Там же Введенский начал писать стихи.
Окончив гимназию, работал конторщиком, затем счетоводом на электростанции «Уткина Заводь». В 1922 году поступил на правовое отделение факультета общественных наук Петроградского университета, но вскоре оставил учёбу. В 1923-1924 годах работал в Фонологическом отделе ГИНХУКа.
В 1924 году вступил в Ленинградский союз поэтов. В 1925 году познакомился с Даниилом Хармсом. Вместе с ним Введенский принимал участие в деятельности авангардной литературно-театральной группы, которая в конце 1927 года утвердилась под названием «ОБЭРИУ» — Объединение Реального Искусства. Введенский, Хармс и некоторые другие обэриуты по предложению С.Я. Маршака начали сотрудничать с детскими журналами «ЁЖ» и «ЧИЖ».
В конце 1931 года Введенский вместе с другими обэриутами был арестован (по доносу о том, что он произнёс тост в память Николая II, или исполнил гимн «Боже, Царя храни…»), выслан в 1932 году в Курск, жил там вместе с Хармсом, затем в Вологде и в Борисоглебске.
В 1934 году, по возвращении в Ленинград, становится членом Союза писателей. В 1936 года Введенский переезжает на постоянное жительство к новой жене Галине Викторовой в Харьков. Там, в 1937 году родился их единственный сын Пётр.
27 сентября 1941 года Александр Введенский арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. По одной из последних версий, в связи с подходом немецких войск к Харькову был этапирован в Казань. Скончался в пути 19 декабря 1941 года. Похоронен, предположительно, на Арском или Архангельском кладбище в Казани.
Автор текста: Виталий Яровой.
Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.
Осматривая гор вершины,
их бесконечные аршины,
вином налитые кувшины,
весь мир, как снег, прекрасный,
я видел горные потоки,
я видел бури взор жестокий,
и ветер мирный и высокий,
и смерти час напрасный.
Вот воин, плавая навагой,
наполнен важною отвагой,
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в могучие ладони
кладет огонь лихой погони,
и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.
Где лес глядит в полей просторы,
в ночей неслышные уборы,
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной,
в пустом сомненье сердце прячем,
а в ночь не спим томимся плачем,
мы ничего почти не значим,
мы жизни ждем послушной.
Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно
и Бог нам не владыка.
Цветок несчастья мы взрастили,
мы нас самим себе простили,
нам, тем кто как зола остыли,
милей орла гвоздика.
Я с завистью гляжу на зверя,
ни мыслям, ни делам не веря,
умов произошла потеря,
бороться нет причины.
Мы все воспримем как паденье,
и день и тень и сновиденье,
и даже музыки гуденье
не избежит пучины.
В морском прибое беспокойном,
в песке пустынном и нестройном
и в женском теле непристойном
отрады не нашли мы.
Беспечную забыли трезвость,
воспели смерть, воспели мерзость,
воспоминанье мним как дерзость,
за то мы и палимы.
Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
Они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя -
сходить с ума не надо.
Пусть мчится в путь ручей хрустальный,
пусть рысью конь спешит зеркальный,
вдыхая воздух музыкальный -
вдыхаешь ты и тленье.
Возница хилый и сварливый,
в последний час зари сонливой,
гони, гони возок ленивый -
лети без промедленья.
Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами,
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.
1940