«Человек на часах» - Лесков Николай Семенович
Ошибка в тексте ?
Выделите ее мышкой и нажмите
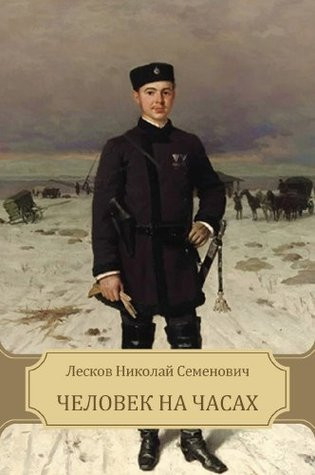
Описание произведения.
Одной из главных жизненных задач Лесков видел выявление в русской повседневной жизни не знаемых миром праведников.
Главная тема рассказа «Человек на часах» — выбор между служебным долгом и христианским милосердием. Первая глава завершается словами: «вымысла в наступающем рассказе нет нисколько». Автору важно, чтобы рассказ не сочли фантазией, так как обстоятельства его сюжета и вправду на грани фантасмагории: солдат по фамилии Постников, стоя на посту у одного из подъездов Зимнего дворца слышит крики тонущего в Неве человека. Кругом из-за позднего времени нет никого, кто мог бы оказать помощь утопающему. Постникову невыносимо слышать крики погибающего: «тонущий ужасно и упорно борется <…> полощется и стонет: “Спасите, спасите!”» — Однако же он на посту, и покинуть его не может. Далее лаконично, но очень впечатляюще описываются колебания героя между чувствами долга и милосердия, причём последнее берёт верх. С одной стороны, «Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки». С другой же, «сердце у Постникова очень непокорное и так и ноет, так и стучит, так и замирает... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится…» Оставаясь солдатом, Постников не перестает быть человеком: «А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонки сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и расстрел». И все же, несмотря на риск, Постников решается нарушить служебный долг, чтобы исполнить нравственный. Он не только спасает тонущего, но, вместо того, чтобы, оставив спасённого, стремглав поспешить на оставленный пост, «не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать».
Далее Постников, передав спасённого проезжавшему мимо офицеру инвалидной команды (он-то и получит медаль за спасение, заслуженную другим человеком), никем, кроме него, не замеченный, как ни в чём не бывало возвратился на пост и опять встал в свою будку. Но о том, что он покинул пост, всё же узнали и назначили ему наказание: двести розг перед строем. И тут душа Постникова показывает себя во всем христианском величии. Первое, он простосердечно признался в оставлении поста и, более того, покаялся в содеянном. «Солдат говорил, что он “Богу и Государю виноват без милосердия”, что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лёд и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды». Последнее, похоже, наиболее мучает героя: ведь именно этим он подвёл своих командиров и товарищей; может быть, он даже обвинял себя за то, что не оставил спасённого на льду в том месте, где он его вытащил. — Он вполне мог это сделать, однако ж не сделал. И все узнавшие об этом, кажется, согласны, что Постников совершил благородный поступок. Интересно не это, а то, что никто не хотел, чтобы открылась правда об этом происшествии. Мотивы, по которым были скрыты истинные причины оставления Постниковым своего поста, весьма прозаические.
Парадоксально, но подлость офицера, приписавшего себе спасение утопающего и умолчавшего о настоящем спасителе, оборачивается благом для всех, — и для главного героя. Он, претерпев экзекуцию, «в самом деле был доволен, потому что, сидя три дня в карцере, ожидал гораздо худшего».
Остался доволен и батальонный командир Свиньин, который «по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и приказал дать от себя наказанному фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лёжа на койке, слышал это распоряжение и отвечал: “Много доволен, ваше высокоблагородие, благодарю за отеческую милость”». — Последние слова, думается, произнесены не по долгу, а от души. Ибо какая разница — медаль или розги — если благородный поступок совершён перед лицом Бога, и Бог наградит правого? — Это объясняет Свиньину, изощрённо и не без лукавства, некое высокое духовное лицо, Владыка.
Дальнейший рассказ Лесков продолжает уже от своего лица: «Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано прорицать тайны Божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы себе позволить предположение, что, вероятно, и Сам Бог был доволен поведением созданной им смиренной души Постникова. Но вера моя мала, она не даёт уму моему силы зреть столь высоко: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро ради самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и набожные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа».
На самом деле, рассказ не столь уж безыскусен, ибо в нём делается попытка простыми понятиями рассудить то, что с трудом поддаётся богословскому рассуждению. Где же истина? — Очевидно, истина в том, чтобы не отрывать правду земную от правды небесной, ибо правда — одна, о чём в полном согласии с Библией намекает нам простодушный рассказчик-автор. «Все пути Господни милость и истина». (Пс.24:10).
История создания.
Историю, лёгшую в основу сюжета «Человек на часах», Лескову поведал один из её участников, Н. И. Миллер (генерал-лейтенант, директор Александровского лицея), в прошлом — выпускник Инженерного училища. В момент происшествия с рядовым Постниковым, он был капитаном, командиром роты и начальником караула, и выведен в рассказе под собственным именем.
Под собственными именами выведены и два других офицера: петербургский обер-полицеймейстер С.А. Кокошкин и полковник Измайловского полка Н.П. Свиньин. Неназванный Владыка — это митрополит Московский Филарет. Лесков не удержался, чтобы ещё раз выразить свою давнишнюю неприязнь к нему.
Главный же герой рассказа, солдат Постников — один из безымянных русских праведников. Лесков просил издателя своего сборника «Повести и рассказы», вышедшего в 1887 году, включить и рассказ о человеке на часах: «...я советовал бы присоединить к тем двум ещё “Спасение погибавшего”»... ибо он тоже относится к “праведникам”, <…> Мне бы очень хотелось, чтобы все эти добряки собрались вместе...»
Впервые рассказ был опубликован в № 4 журнала «Русская мысль» (1887) под названием «Спасение погибавшего». Позднее Лесков изменил название на «Человек на часах».
Отношение автора к вере.
Лесков знал и понимал и был способен оценить все явные и тайные закоулки верующей русской души. За единственным исключением: его, похоже, не слишком занимали внутренние изменения человека на его пути к Богу.— Его больше интересует праведность, выражающаяся не только в служении ближним, но и в государственной службе. Превращение же грешного человека через покаяние в святого, остаётся вне сознания Лескова. Даже сам термин святость, кажется, ни разу не фигурирует в его произведениях. Его герои реализуют свою праведность почти исключительно в сфере социальной, в лучшем случае, семейной. По этой причине, наверно, он не жаловал привычное русское благочестие, отнюдь не считающее этот вопрос главным: «Дом был, разумеется, благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились».
Что же касается сферы чисто церковной, то и здесь Лескова зачастую подводил его темперамент общественного деятеля. Он пытался выполнить заведомо невыполнимую задачу — соединить церковь земную, как один из общественных институтов, с небесной её сущностью; но, не находя в современной ему церковной жизни этого совмещения, проникаясь естественным отвращением к уродствам современного ему церковного быта, в запальчивости уходил в сторону, зачастую очень далеко и от самого православия, пытаясь увидеть это совмещение то в протестантизме (в частности, в квакерстве, как в повести «Юдоль»), то вообще в отколовшихся от него осколках, вроде симпатичной ему штунды, представители которой очень привлекательно выведены в ряде его произведений (например, в «Некрещёном попе»).
Лесковский праведник, предпочитающий делание во благо ближних, но в одиночку, почти всегда выпадает из рамок привычного благочестия и оказывается где-то в стороне от основной массы верующего русского народа, как, например, герой повести «Несмертельный Голован», который, по мнению окружающих, «казался сумнительным в вере». У Лескова же чистота восприятия Христа неизбежно связывается ещё и с некоторым дистанцированием от оснований заложенной Им, но со временем деградировавшей, по мнению писателя, Церкви. Посему он ищет Христа и в штунде, и в квакерстве, и в толстовстве, и даже в язычестве («На краю света»).
И, действительно, многие из его героев, в бытовом делании являющиеся нравственным примером для окружающих, зачастую избегают хождения в церковь. Тем не менее, в целях извлечения поучения и пользы, читателю Лескова важно уловить ту грань, на которой ему можно и должно остановиться.
Биография.
Николай Семёнович Лесков родился 4 [16] февраля 1831 года в селе Горохово Орловского уезда. В августе 1841 года в десятилетнем возрасте Лесков поступил в первый класс Орловской губернской гимназии, но учился плохо: через пять лет он получил свидетельство об окончании лишь двух классов. С 1847 по 1857 гг. служит на канцелярских должностях разного уровня в Орле и Киеве.
В 1850—1857 годах в Киеве Лесков посещает вольнослушателем лекции в университете, принимает участие в религиозно-философском студенческом кружке, общается с паломниками, старообрядцами, сектантами.
В 1857 году Лесков работает в компании своего родственника А.Я. Шкотта (Скотта) «Шкотт и Вилькенс». По делам фирмы Лесков постоянно отправляется в «странствования по России», что также способствует его знакомству с языком и бытом разных областей страны.
Лесков летом 1860 года возвращается в Киев, где занимается журналистикой и литературной деятельностью. Через полгода переезжает в Петербург, сотрудничает с «Отечественными записками», «Русской речью» и «Северной пчелой», постоянным сотрудником которой он стал.
В 1863 году выходят его первые повести «Житие одной бабы» и «Овцебык». Тогда же в журнале «Библиотека для чтения» печатается роман «Некуда» (1864), сатирически изображавший быт нигилистической коммуны, которому противопоставляются трудолюбие русского народа и христианские семейные ценности. Примерно в это время Н. С. Лесков дебютирует и как драматург.
В 1872 году в «Русском вестнике» Лесков публикует большой роман «Соборяне». Произведение, темой которого стало противодействие «истинного» христианства казённому, впоследствии привело писателя к конфликту с церковными и светскими властями. Оно же стало первым, «имевшим значительный успех». В том же году выходит повесть «Очарованный странник», имевшая успех при дворе. Одним из самых ярких образов в галерее лесковских «праведников» стал Левша («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», 1881). В 1880-х годах Лесков создаёт серию произведений о праведниках раннего христианства.
В 1880-х годах меняется отношение Н. С. Лескова к церкви — сказалось влияние Льва Толстого, с которым он сблизился в конце 1880-х годов. Скандал вызывает очерк Н.С. Лескова «Поповская чехарда и приходская прихоть» (1883) и повесть «Полунощники», завершенная осенью 1890 года. За эти произведения Н. С. Лесков был уволен из Министерства народного просвещения.
Умер Николай Семенович Лесков 21 февраля [5 марта] 1895 года в Петербурге от очередного приступа астмы, мучившей его последние пять лет жизни. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Автор текста: Виталий Яровой.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
