Ошибка в тексте ?
Выделите ее мышкой и нажмите
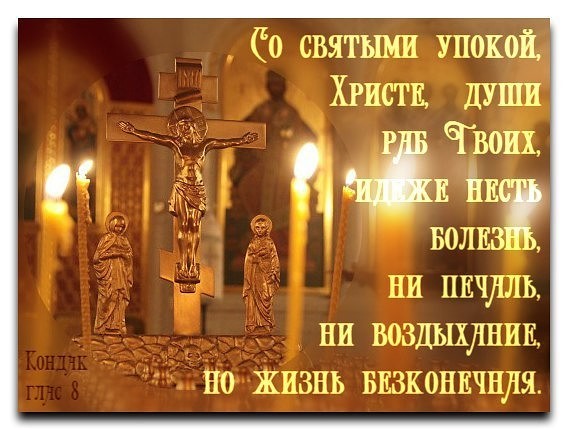
Описание произведения
«Со святыми упокой» - духовное сочинение А.Д.Кастальского для хора а-капелла. Текст сочинения взят композитором из «Последования панихиды» русской православной церкви. Как правило, для исполнения последования использовались обиходные монастырские напевы и осмогласие (постоянные мелодии, которым подчинена вся структура богослужений).
Сочинение А.Д.Кастальского отличается выразительностью и плавностью мелодической линии. Хор звучит словно единый голос – голос небесных сфер, все произведение наполнено светом и умиротворением. Искренние, сердечные слова молитвы соединяют небо и землю, дают почувствовать слова Евангелия, что «Бог не есть Бог мертвых, но живых». А еще в этом сочинении звучит скорбь о всех, кто был дорог А.Д.Кастальскому.
История создания
Впервые сочинение А.Д.Кастальского «Со святыми упокой» было исполнено в начале на рубеже XIX и XX веков в Москве, а сегодня оно известно во всем мире среди профессиональных музыкантов и ценителей хорового и духовного пения. Музыкальная «проповедь» композитора, его наследие духовных сочинений с каждым годом вызывает все больше интереса в профессиональной среде. Непростая судьба Кастальского, его попытки сохранить Синодальное Училище хотя бы и под новым названием не может не вызывать сочувствия, таким сочувствием проникся к своему другу С.В.Рахманинов и всячески поддерживал его. С болью в душе от происходящего в его родной музыкальной, духовной среде жил этот великий церковный композитор и большой музыкант после 1917 года.
С каждым годом растет количество международных и российских хоровых фестивалей, на которых участники исполняют произведения А.Д.Кастальского. От коллектива и дирижера требуется высокий профессионализм, чуткость и тонкий художественный вкус, ведь в сочинениях Александра Дмитриевича живет вся красота и мощь русской культуры.
Отношение автора к вере
Александр Дмитриевич Кастальский родился в семье известного священника, сподвижника святителя Филарета, Дмитрия Ивановича Кастальского и дочери священника подмосковного села Ольги Семеновны. Это была очень благочестивая семья, каждый год вместе с детьми отправлялись Кастальские на богомолье в Троице-Сергиеву-Лавру. Названный в честь святого благоверного князя Александра Невского сын, решил посвятить свою жизнь музыке, и родители не настаивали на выборе священнического пути.
Во время работы в московском Синодальном училище композитор познакомился со взглядами известного ученого-музыканта Степана Васильевича Смоленского и стал их горячим последователем, таким образом он стал работать над гармонизацией старинных русских, а также обиходных напевов. Одно из произведений композитора – «Милосердия двери» прозвучало перед святым Иоанном Кронштадтским, который по свидетельству очевидцев пришел в величайшее умиление и горячо молился при этом. Об отпевании своем в 1926 году Кастальский тайно попросил своего друга, регента и композитора Николая Михайловича Данилина и тот, несмотря на все риски, выполнил просьбу – первый пропел панихиду у гроба и пригласил священников. Вся жизнь А.Д.Кастальского была посвящена служению церкви, созданию духовной музыки и сегодня она звучит снова в так любимой им России, во вновь возрожденных храмах, словно живой памятник композитору.
Биография
Александр Дмитриевич Кастальский родился 6 (28) ноября 1856 года в Москве, в семье священника. Избрав путь музыканта, поступил в Московскую консерваторию, где его учителями стали великие С.И.Танеев и П.И.Чайковский. После окончания обучения работал преподавателем музыки среди рабочих, затем в 1887 году стал помощником регента и преподавателем в московском Синодальном Училище. Эта работа оказала огромное влияние на дальнейшее творчество талантливого композитора – реформы, проводимые в Училище, сформировали музыкальный стиль Кастальского – он увлекся обработками старинных русских и обиходных напевов и в этом очень преуспел. Современники сравнивали композитора с Васнецовым, его сочинения также увлекают глубиной и самобытностью и примечательно, что сам композитор замечательно рисовал «Будучи художником, он видел мир в красках и, будучи хоровым композитором, слышал его звуки в певческих тембрах. Особое внимание Кастальского приковывали басы, которые как лейттембр проходят через многие его сочинения». Его произведениями восхищался сам Н.А.Римский-Корсаков: ««Пока жив Александр Дмитриевич, жива русская музыка: он владеет русским голосоведением и доведет свое уменье до высшего мастерства». Когда-то юного Александра увлекали идеи «Могучей Кучки» и вот он сам получает наивысшую похвалу от одного из ее членов.
«Яркость и убедительность подхода Кастальского к обработке древних церковных распевов была для большинства музыкантов бесспорной. Его сочинения вдохновили многих композиторов на творческие поиски. В их числе был и Сергей Васильевич Рахманинов», в результате свет увидела знаменитая «Божественная Литургия». Впоследствии, именно Рахманинова будет просить Кастальский о возможности издания в Америке своих сочинений и получения гонорара, а тот в 1924 году выхлопочет ему место преподавателя, но слабый здоровьем от лишений Александр Дмитриевич уже не решится на переезд. О его жизни в советский период стало известно из писем другу в Америку, которые хранились в библиотеке Конгресса, он описывает свою жизнь, а это: «нищета, болезни, голод и холод, страх от постоянной угрозы «уплотнения» жилья и т.д.». Рахманинов помогал другу материально после получения этого крика о помощи.
До 1910 года Кастальский был главным регентом Синодального училища, а потом и директором. Много славных страниц жизни Училища было им написано, но грянула Революция, а вместе с ней и разрушился весь уклад жизни. Композитор попытался сохранить Училище под новым названием, писал Уставы, но по воспоминаниям очевидицы этих событий, его опыт и знания ни во что не ставили, а должности были скорее почетными, ибо не давали права решать судьбу Училища самостоятельно даже в малом. Лучше всего деятельность композитора того времени характеризует свидетельство музыковеда Е.Н.Лебедевой. Несколько месяцев назад в фондах Музея музыкальной культуры был обнаружен листок с кратким фрагментом ее воспоминаний, познакомилась она с Кастальским в 1918 году. Вот этот чудом сохранившийся документ: «Впервые мне пришлось увидеть Александра Дмитриевича на заседании по вопросам составления учебных программ в музыкальных школах. Заслушивали его программу для Синодального училища, переименованного в Хоровую академию. Программа была прекрасно составлена и не оставляла желать ничего лучшего, видна была огромная эрудиция и многолетний опыт Александра Дмитриевича, но ее, конечно, по многим пунктам все критиковали для того, чтобы то же самое использовать потом «под другим видом». Я не знала раньше А.Д., и меня поразил его вид какого-то затравленного зверя. Он знал, что программа его великолепна, но осуждают ее только потому, что она составлена «им». У него можно было прочесть на лице при всей его сдержанности и самообладании: «Режьте меня на части, а я все-таки прав». Во всем его облике было не то терпенье, не то какое-то выжидание как-нибудь покрепче сшибить тех, которые вкривь и вкось судили его «правое дело». Он все время молчал и отвечал только односложно или кивком головы. И все же он мне показался настолько выше всех тех, которые то или иное ему указывали, что когда я узнала, что это Кастальский, подошла к нему и старалась как можно больше выказать внимания его давно известному мне дарованию и, когда он приходил в МУЗО (Музыкальный отдел Наркомпроса. – Авт.), то всячески старалась отметить это, чтобы в первую очередь исполнить то, что ему было нужно. Так установилось, между нами, то доверие, которое повело к самому дружескому отношению.
Когда организовался (по моей инициативе) этнографический подотдел (Музыкального отдела Наркомпроса. – Авт.), то я стала уговаривать А.Д. принять участие в его работе, на что он отнекиваясь говорил: «Ну вас к свиньям, не хочу с вами работать». Тогда я взяла листок бумаги и написала: «Прошу зачислить меня в сотрудники этнографического подотдела». Он подписал. Я тотчас же снесла эту бумажку к заведующему, который тоже подписал и сразу назначил А.Д. ставку выше других сотрудников, что до некоторой степени примирило А.Д. Все же он ходил на заседания редко и только изредка проявлял интерес к делу. Так было до конца. За невозможностью посещать заседания в последние годы из-за нездоровья, несколько раз назначали заседания у А.Д. на квартире, и это было очень приятно для всех. Точно все пришли навестить его, и гостеприимный хозяин принимал у себя гостей. Для нас было праздником слушать и его доклады о тех достижениях, которые готовились для печати.
Личность его производила впечатление удивительной простоты. Скажу даже, он при своих наклонностях к наблюдениям над жизнью народа иногда любил употреблять народные слова и «крепкие выражения», но все это говорилось так добродушно, что никоим образом не могло никого обидеть.
В области духовной музыки у А.Д. были такие постоянные почитатели, что то и дело обращались к нему, чтобы он написал тот или иной напев для храмового праздника. Даже на смертном одре А.Д. закончил заказанные ему церковные напевы, и когда Данилин пришел проиграть их на рояле, то А.Д. стало очень тяжело, и он сказал Данилину, но так, чтобы кроме него никто этого не мог слышать: «Ты меня отпой». Тут же были и Наталья Лаврентьевна, и сын А.Д., но этого не слыхали. Данилин совершил положительно ПОДВИГ, исполняя волю покойного. Он первый пропел панихиду у гроба А.Д., позвал духовенство, пел заупокойные сочинения Кастальского, провел все отпевание. И когда после отпевания понесли гроб к консерватории и затем к бывшему Синодальному училищу, квартире А.Д., то старые «синодалы» мощными голосами пели по улице «Святый Боже», пели почти до кладбища с перерывами, и при опускании гроба в могилу раздавалась далеко «Вечная память». Словом, ученики сплотились у свежей могилы дорогого Учителя и дали друг другу слово продолжать его дело, сплотиться и организовать Музей его имени в его комнате.
Автор текста: Веткина Анастасия Александровна.
Текст.
Со святыми упокой, Христе, душы раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная.
